Жилой комплекс по адресу улица 8 Марта, 2 был построен в 1928-1932 годах. Это был один из первых домов в Свердловске (ныне – Екатеринбург), построенных для новой советской элиты. В народе его прозвали Второй дом Советов. Комплекс был возведен по проекту архитекторов И.П. Антонова и В.Д. Соколова в конструктивистском стиле. Строили жилой комплекс раскулаченные крестьяне-спецпереселенцы из Краснодарского края.
Комплекс состоит из основного четырехэтажного многоподъездного дома и 11-этажного дома, первого небоскреба в городе. Дом предназначался для сотрудников НКВД, крупных партийных деятелей и заслуженных работников культуры. Первый этаж обоих домов занимали помещения культурно-бытового обслуживания: душевая, прачечная, столовая, парикмахерская, детский сад, клуб, кинозал и тир. Ныне - памятник архитектуры федерального значения. Одно время в этом доме жил будущий первый президент России Б.Н. Ельцин.
Волна репрессий докатилась и сюда. Среди арестованных и расстрелянных жильцов дома заместитель начальника Управления местной промышленности Н.И. Медников, председатель облисполкома В.Ф. Головин, первый секретарь Свердловского обкома и горкома ВКП(б) И.Д. Кабаков. Утром 23 мая 1937 года в своей квартире застрелился второй секретарь Свердловского обкома ВКП(б) К.Ф. Пшеницын.
Сегодня здесь появились первые две таблички «Последнего адреса». Перед установкой памятных знаков активисты проекта «Последний адрес в Екатеринбурге» провели косметический ремонт колонны, на которой сегодня установили таблички. Деньги на ремонт собрали при помощи фандрайзинга.

Ян Петрович Гайлит (Гайлитис) родился в 1894 году на хуторе Нейлад Вольмарского уезда (по другим данным – в городе Вольмар) Лифляндской губернии в семье крестьян-батраков. Летом он помогал отцу пасти скот помещика, а зимой учился в приходской школе. Он окончил четыре класса городского училища в городе Вольмар и в 1912 году уехал к старшему брату в Ригу, где поступил на землемерные курсы. Уже через 10 месяцев он поехал на Украину в поисках работы, три года проработал по специальности – землемером. Но началась Первая мировая война, и в 1915 году его призвали в армию. Несколько месяцев Ян служил в 243-м запасном пехотном полку, а затем его направили в Чистопольскую школу прапорщиков, которую он окончил в сентябре 1916 года в чине подпоручика. Из школы его распределили служить в 10-й Малороссийский гренадерский полк.
В ноябре 1917 года Гайлит был избран председателем Военно-революционного комитета Особой армии Юго-Западного фронта. В 1918 году он вступил в РКП(б) и записался добровольцем в Красную Армию, командовал 1-м Латышским (московским) боевым отрядом, затем – Пензенской группой войск на Восточном фронте, в июле 1918 года стал командиром Пензенской пехотной дивизии. В 1918-1919 годах Гайлит командовал различными воинскими соединениями, в том числе 1-й (впоследствии 76-й) бригадой 26-й стрелковой дивизии, которая под его командованием особенно отличилась в Челябинской операции 1919 года. Белые прозвали бригаду «бешеной». «Этот лестный в устах противника эпитет отражает прежде всего, конечно, бешеную классовую злобу того, кто придумал его, и очень условно качества бригады и ее командира т. Гайлита. Никто ни в какой обстановке не видел его проявившим хотя бы на мгновение малейшую горячность или нервность. Как полководец, он действовал неизменно решительно, с огромной настойчивостью, с колоссальным волевым напором, но все его планы были продуманы чрезвычайно тщательно, с учетом всех подробностей обстановки местности, а также своих и противника сил. Его бригада проявила в боевых действиях те же качества: смелость и стремительность удара, исключительную волю к победе. Ее путь от Уфы и до Волги и от Волги до сибирских равнин был увенчан многими славными победами над противником» - писал 15 лет спустя публицист Георгий Павлов в статье о Гайлите «Бешеная бригада», (журнал «Сибирские огни», № 1, 1935 год).
По итогам этой операции Красная Армия заняла весь Урал. За бои на Восточном фронте в 1920 году Гайлит был награжден орденом Красного Знамени. В августе-октябре 1921 года он возглавлял группу войск, созданную для разгрома частей барона Унгерна на Алтае.
В 1922 году Гайлит окончил Высшие академические курсы (ВАК) при Военной академии РККА и продолжил свою профессиональную военную карьеру, занимая различные командные должности: помощника командующего войсками Западно-Сибирского военного округа, командующего Западно-Сибирским военным округом, командира 19-го Приморского корпуса, помощника командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. В январе 1930 года Ян Петрович был назначен заместителем начальника Главного управления РККА.
В октябре 1930 года Гайлит стал одним из слушателей первого набора особой группы Военной академии имени М.В. Фрунзе. В феврале 1932 года его назначили помощником командующего войсками Московского военного округа, а через месяц перебросили в Минск, назначив комендантом Минского укрепленного района. В 1933 году Гайлита переводят в Сибирь – командующим Сибирским военным округом. Ян Петрович с семьей переезжает в Свердловск (ныне – Екатеринбург).
С весны 1937 года, когда состоялся февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б), в стране был дан старт всеобщей кампании «борьбы с вредительством». И хотя тогдашний народный комиссар обороны Климент Ворошилов и заявил на пленуме, что «у нас в рабоче-крестьянской Красной армии к настоящему моменту, к счастью или к несчастью, а я думаю, что к великому счастью, пока что вскрыто не особенно много врагов народа», репрессии не обошли стороной военных. Уже в середине марта Ворошилов созвал актив командного и начальствующего состава Наркомата обороны с участием членов политбюро и правительства, на котором нарком заявил: «Я повторяю, у нас арестовано полтора-два десятка пока что, но это не значит, товарищи, что мы с вами очищены от врагов, нет, никак не значит. Это говорит только за то, что мы еще по-настоящему не встряхнули, не просмотрели наших кадров, наших людей. Это нужно будет обязательно сделать, нужно очиститься полностью» (цитируется по книге «Маршалы Сталина», автор Ю.В. Рубцов). В конце марта Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление, в котором, в частности, говорилось: «Предложить НКО (Наркомат обороны. – прим. ред.) уволить из рядов РККА всех лиц командно-начальствующего состава, исключенных из ВКП(б) по политическим мотивам».
«Репрессии против командно-начальствующего состава Красной Армии – это одна из самых трагических страниц нашей истории, когда наказанию в массовом порядке подверглись совершенно невинные люди. Подобное никогда и ничем не может быть оправдано. Репрессии затронули все без исключения ячейки вооруженных сил страны – от подразделения до центрального аппарата наркомата обороны и Генерального штаба РККА», - пишет в своей книге «1937 год: Элита Красной Армии на Голгофе» военный историк Н.С. Черушев.
11 марта 1937 года был арестован командующий войсками Уральского военного округа (УрВО) комкор И.И. Гарькавый, через два месяца - его заместитель комкор М.И. Василенко (оба расстреляны 1 июля 1937 года по обвинению в «троцкистском заговоре и участии в контрреволюционной военно-фашистской террористической организации») и заменивший его на этом посту в марте командующий войсками Уральского военного округа комкор Б.С. Горбачев (расстрелян 3 июля 1937 года по обвинению в «участии в контрреволюционной военно-фашистской террористической организации»).
После ареста Горбачева командующим войсками УрВО был назначен комкор Гайлит. Но и он пробыл на этой должности недолго: через два с половиной месяца, 15 августа 1937 года, арестовали и его. К тому моменту уже состоялся показательный процесс над руководящим составом РККА маршалом Советского Союза М.Н. Тухачевским, командармами 1-го ранга И.П. Уборевичем и И.Э. Якиром, командармом 2-го ранга А.И. Корком, комкорами В.М. Примаковым, В.К. Путной, Б.М. Фельдманом, Р.П. Эйдеманом, которые были приговорены к высшей мере наказания по обвинению в «участии в военном заговоре» и расстреляны в ночь на 12 июня 1937 года.
Гайлита, в отличие от его коллег, продержали в тюрьме почти год. Его обвинили в «шпионаже в пользу Германии и Латвии», а также в «участии в контрреволюционной латышской организации». Возможно, именно латышская составляющая обвинения и стала причиной столь долгого судебного разбирательства.
30 ноября 1937 года была издана директива НКВД (приказ № 49990), направленная против латышской диаспоры на территории СССР. С этого момента аресты латышей стали носить массовый характер. Всего по «латышской линии» в годы Большого террора было осуждено 21 300 человек, из них 16 575 приговорены к расстрелу.
Одним из руководителей «контрреволюционной латышской организации», якобы существовавшей в рядах РККА, был, по мнению следователей из НКВД, начальник ВВС РККА, заместитель наркома обороны СССР по ВВС, командарм 2-го ранга Я.И. Алкснис. Он был арестован 23 ноября 1937 года.
«По замыслу "стратегов" из НКВД Алкснис должен был занять крупный пост в придуманной ими националистической латышской организации, - пишет в своей книге историк Черушев. - Учитывая, что латышей в Красной Армии, особенно в высшем эшелоне ее командования, было достаточно много (несколько командармов и комкоров, не говоря уже о более низких воинских званиях), в НКВД решено было выделить ее в самостоятельную организацию, поставив во главе военного центра, помимо Алксниса, также командарма 2-го ранга И.И. Вацетиса (бывшего главкома Вооруженных сил республики), комкоров Р.П. Эйдемана, Ж.Ф. Зонберга (первый был председателем Центрального совета Осоавиахима СССР, а второй – его заместителем по военной работе), Я.П. Гайлита (командующего войсками Сибирского, а затем Уральского военных округов), комдива Г.Г. Бокиса (начальника автобронетанковых войск РККА)».
Имя Гайлита есть в сталинских списках по первой категории, предполагавших расстрел. В этом же списке от 26 июля 1938 года – имена Я.И. Алксниса (расстрелян 29 июля 1938 года) и И.И. Вацетиса (расстрелян 28 июля). Гайлита расстреляли 1 августа 1938 года. Ему было 44 года.
Не избежала участи мужа и его жена, журналистка и писательница Клеопатра Никифоровна Гайлит. Она родилась в 1896 году в Керчи в семье служащего «из самой страшной мещанской бедноты дореволюционного времени» (так в 1939 году писала сестра Клеопатры Никифоровны Прасковья Ивановна Редникина, пытаясь вызволить сестру из тюрьмы). В семье было восемь детей, все они получили низшее образование, и, по свидетельству сестры, «только ее одну мать, ценою страшных унижений и просьб чуть ли не на коленях об освобождении от платы за учение, выучила в средней школе». Окончив гимназию, она поступила в Казанский университет, но проучилась там лишь два года. До 1925 года, судя по анкете арестованного, она работала преподавателем, затем стала журналистом и детским писателем. К тому моменту она уже была замужем за Яном Петровичем, в 1922 году в семье родился первенец – сын Георгий, в 1926-м – дочь Валентина.
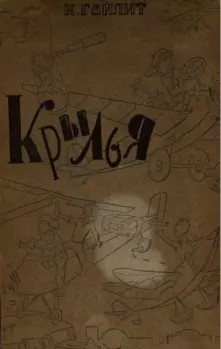
В 1930-х годах вышли в печать несколько книг Гайлит, в том числе детская книга «Крылья», повесть «Грозный перевал» (о Гражданской войне на Алтае). Она печаталась в журнале «Сибирские огни». К моменту ареста Клеопатра Никифоровна работала в Западно-Сибирском краевом издательстве.
Клеопатру Никифоровну арестовали как «члена семьи изменника родины» через десять дней после мужа – 25 августа 1937 года. Проведя пару формальных допросов, на которых, как описала это сама Клеопатра Никифоровна в заявлении на имя Главного военного прокурора СССР, направленном ею в марте 1940 года, уже из лагеря, «следователь - слушатель Свердловской школы НКВД (фамилии не помню) - задал мне по заранее заготовленной шпаргалке два-три стереотипных вопроса, имевших целью выяснить, что я знала о контрреволюционной деятельности моего мужа».
Следующий допрос случился уже в январе 1938 года. На нем следователь – арестовавший ее майор Елкин – начал допрос «с категорического заявления о том, что моего мужа допрашивал «сам Николай Иванович» (тогдашний нарком внутренних дел Николай Ежов. – прим. ред.), что муж мой «во всем сознался» и что он, майор Елкин, в доказательство этого может показать мне собственноручные показания мужа. Инсценируя поиск этих «собственноручных показаний», майор Елкин даже выходил из кабинета, а затем, сославшись на отсутствие какого-то начальника, обещал показать мне эти документы завтра. Такой, по меньшей мере наивный, прием следователя ничего, кроме смеха, у меня вызвать не мог: я снова и снова заявила, что не верю ни одному слову его, что я, проживши с мужем 17 лет, умея разбираться в людях, твердо знаю и утверждаю, что мой муж, Гайлит Я.П., не был, не мог быть и, несмотря ни на какие допросы «самого Николая Ивановича», не будет ни изменником, ни предателем дела Ленина-Сталина, что звание коммуниста-большевика он пронес через всю свою сознательную жизнь свято и незапятнанно. Это не только мое, его жены и друга, мнение, но и мнение красноармейцев и командиров, соприкасавшихся с ним по работе. Может быть, чтобы спасти свою шкуру, в то время нужно было очернить, запакостить ни в чем не винного человека, но я этого сделать не могла. "Допрос" через 10 минут был закончен, меня снова упрятали в тюрьму, так и не предъявив мне конкретного обвинения».
В результате Клеопатру Никифоровну продержали в тюрьме больше года. В июле 1938 года она даже попала в тюремную больницу – обострилось ее хроническое заболевание. В конце сентября Гайлит ознакомили с обвинительным заключением, составленным еще в 1937 году. «Дату моей подписи под этим документом мне не разрешили проставить. Тот же следователь Лескин дал мне подписать и протокол об окончании следствия. В этом протоколе указывалось, что следствием установлено, что я ничего о контрреволюционной деятельности мужа своего не знала и доносить властям было не о чем. Таким образом, обвинение меня в том, что я «знала, да не сказала», отпадало, и, казалось бы, должны были отпасть и вытекавшие из тяжкого обвинения последствия», - писала она в заявлении.
И тем не менее 28 октября 1938 года Клеопатру Никифоровну приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В конце ноября ее выписали из тюремной больницы и 5 декабря отправили по этапу отбывать наказание. Ее определили в Темниковский лагерь в Мордовии.
Из заявления Гайлит: «Здесь я, человек, которого ни в чем не обвиняют следственные органы НКВД, ничем не запятнавшая себя ни на работе, ни по убеждениям перед народом, страной, Советской властью и Компартией, несу наказание, которому в нашей стране подвергают за тяжкие преступления, «исправляюсь» неизвестно от чего, недоумевая, тщетно пытаясь найти хоть мало-мальски логическое объяснение столь чудовищной катастрофе, выбросившей меня из жизни».
К тому моменту она уже знала о гибели мужа, но продолжала бороться за его доброе имя: «Но и не ложное "благородство": о мертвом - или ничего, или хорошо, нет, только твердое убеждение заставляет меня вновь повторить, что обвинение его в измене Родине - ложное, вражеское обвинение».
У Гайлитов осталось двое детей, которым к моменту их ареста было 15 (Георгий) и 11 (Валентина) лет. Как мы узнаем из заявления Клеопатры Никифоровны, детей, несмотря на обещание отдать под опеку ее сестре, отправили в детский дом (Колывань, Новосибирской области). Георгия через несколько месяцев, не дав окончить школу, отправили сначала в Томскую трудовую коммуну, затем в Мариинские лагеря, а в декабре 1939-го родственники потеряли его след. Валентина в детском доме получила тяжелое заболевание глаз и начала слепнуть. Но все хлопоты родных о том, чтобы взять ее под опеку, оставались без ответа.
«Выходит, что И.В. Сталин всенародно объявляет, что "сын за отца - не ответчик", а работники НКВД, вопреки этому утверждению, гоняют несовершеннолетнего мальчишку по лагерям потому, что его отец имел несчастие попасть под рубрику "изменник Родины". Да и есть ли она, эта вина, у отца? Доказана ли? Или, унеся в могилу эту вину, отец на всю жизнь проклял сына и дочь?»
29 сентября 1940 года Клеопатра Никифоровна скончалась в лагере из-за обострившейся болезни. В свидетельстве о смерти причина указана как «сепсис при брюцелозе (так в оригинале. – прим. ред. Правильный термин – бруцеллез).
Ян Петрович Гайлит был реабилитирован в 1957 году, Клеопатра Никифоровна Гайлит – в 1958 году.
При подготовке материала были использованы документы Архива Главной военной прокуратуры РФ, сведения из книги военного историка Н.С. Черушева «1937 г. Элита Красной Армии на Голгофе», а также материалы, предоставленные старшим научным сотрудником отдела истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера Ольгой Николаевной Потемкиной.
Из документов следственных дел
Церемония установки таблички проекта «Последний адрес»: фото
